Тринитарность христианства в свете философии сознания
Быть христианином не означает быть религиозным в
определённом смысле<…> а означает быть человеком
Известно высказывание Тертуллиана: «Христианами не рождаются, но становятся». Дитрих Бонхёффер, немецкий пастор, мыслитель, казнённый нацистами, как видим, развил эту мысль: чтобы быть христианином, нужно ещё и стать человеком. Что он имел в виду?
Очевидно, у Бонхёффера было о человеке особое представление. И это неудивительно: ведь вопрос «что такое человек» – основной в философии. И сказать, что ответ на него ясен, никак нельзя. В русской мысли ещё Чаадаев высказывал сомнение: «Когда философ произносит слово человек, всегда ли он хорошо знает, что он хочет сказать?» Чаадаев совсем не был в этом уверен.

Бонхёффера едва ли удастся понять, если не иметь в виду, что у эпохи, пришедшей на смену Модерну, меняются представления о человеке. Признание недооценки его глубин, неправомерности представлений о его одномерности привёл к пробуждению нового интереса к его духовной составляющей. Иначе говоря – к той его стороне, которая не определяется природным началом. Отсюда и интуиция о новой роли христианства в его жизни.
Попытаемся насколько возможно прояснить складывающуюся ситуацию, вновь обратившись к обоим понятиям: человек и христианин.
* * *
Xристианство, как заметил С. Аверинцев, «сразу и проще всего на свете, и сложнее всего на свете».
Исповедуют его его очень разные люди: от простонародья до культурной верхушки; от христиан воцерковленных до так называемых внеконфессиональных (или «анонимных»). При этом одни веруют в возможность царствия Божиего на земле, а другие ожидают его как конца света и преображения.
Сначала остановимся на том, что «проще». В основе христианства лежат представления о Боге как о творце и властителе мира, абсолютном добре и моральном законодателе, давшем человеку свои заповеди. Согласно Священному Преданию и Священному Писанию, Вселенная, Земля и человек – суть творения Бога. Он трасцендентен, непознаваем и человек может в него лишь верить, т.е. принимать/доверять без доказательств1. В Библии говорится, что вера есть «осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11:1). Всё, что происходит в нашем мире, предопределено Божественным промыслом, Провидением.
«Сложнее» же – это уникальная тринитарность христианства: учение о Святой Троице, о «неслиянном и нераздельном» единстве Отца и Сына и Святого Духа и о Боговоплощении. Вобрав и переосмыслив опыт многих ранних религиозных представлений, христианство решило проблему отношений человека с Богом совершенно особым, парадоксальным образом: это не только нерассуждающая вера, но и диалог сущностно родственных, соприродных субъектов, богообщение. Имеется в виду взаимосвязь такого рода, при которой не только высшее начало как бы прорастает в низшем, но и низшее способно (и призвано) преобразиться до высшего2.
Это парадоксальный диалог личности и личности: ведь полноценно общаться можно лишь с живым существом. В Христианстве – единственной из мировых религий – Христос, Бог-Сын выступает как личность, соединяющая природный и сверхприродный миры. «Телом Христовым» на земле выступает Святая Церковь – объединяющая (соборная) нравственная сила. «Церковь в экзистенциальном, не объективированном смысле есть общение (сommunauté ), соборность, – уточнял Бердяев. – Соборность есть экзистенциальное "мы"» [Бердяев 1936, с. 22].
Поэтому конечное назначение человека, его нравственный долг состоит в том, чтобы стремиться обожиться, стать Богочеловеком, совершенным существом. Своей волей соединившись в душе с триединым Богом, живя согласно его заповедям, человек способен принять благодать и отринуть зло мира. Напряжённым усилием, богообщением преображая себя, строя («спасая») свою душу, он таким образом вытесняет зло – из себя самого и из мира – и готовит себя к жизни вечной. (Правда, будучи свободным, т.е. самозаконным существом, он может и не делать это, если зло в его сердце оказывается сильнее.) И, конечно, «носить и творить Бога в своей душе гораздо труднее, чем ожидать от него материальных чудес» [Струве 1997, с. 315].
И в этом смысле все побуждения к принятию Бога, идущие извне, – религиозное воспитание, конфессиональная принадлежность и вероисповедная обрядность – суть лишь внешнее (само по себе безусловно необходимое) оформление для единственно подлинно значимого – внутреннего побуждения. Поэтому тринитарная религия не ограничивается почитанием Бога (его культом), молитвенными обращениями к нему и жаждой исходящих от него благ. Речь идёт о намного большем: о таком самоизменении, самопостроении, результатом которого стал бы единственно приемлемый образ отношений между людьми, основанный на нравственном законе любви к ближнему, отношений, коренным образом отличающихся от тех, что существуют в грешном мире.
Исключительность христианства, таким образом, состоит в признании человека лично ответственным за судьбы свою и мира. Вот как понимал суть христианства М. Мамардашвили: «С тех пор, как есть Евангелие и есть Слово, нет ничего, что не имело бы ко мне отношения, и нет делегирования мысли, делегирования ответственности. Таков первичный, евангелический смысл христианства. <...>Евангелие говорит: ничего не предваpяется ни Законом, ни пророком – твоим собственным усилием берётся» [Мамардашвили 2004, с. 238-239].
Христианство утверждает, что вследствие грехопадения мир лежит во зле, и поэтому в нём спасения для вечной жизни быть не может, разве что зла станет сколько-нибудь меньше – именно вследствие проявления и развёртывания индивидом своей богочеловеческой природы. Но на земле всё временно, грешный мир обречён и только после своей гибели он преобразится и Богочеловечество осуществит Царствие Божие во всей его полноте.
Понимая христианство как «нравственно–историческую задачу, как общее дело человечества», эти идеи положил в основу своей концепции всемирно–исторического развития Вл. Соловьёв. Мыслитель полагал, что смысл и цель истории состоят именно в преображении, в появлении Богочеловечества.
* * *
Итак, тринитарность христианства предполагает взаимосвязь человека, природного существа, и некоего сверхприродного начала – конструктивную связь, создающую самого человека. Между тем, говоря о «сверхприродном» как о чём-то, непосредственно относящемся к феномену «человек», но не существующем в видимом мире, мы очевидно сталкиваемся с проблематикой философии сознания. Ведь именно сознанием выделяется человек из всего остального мира.
Особый вклад в представления о сознании внёс Мераб Мамардашвили.
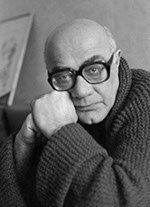
В философии этого замечательного мыслителя источник сознательных состояний сопряжён с тайной мира и времени, с тайной Бытия. Сознание Мамардашвили называл «неведомой страной», «невидимой тайной родиной всякого сознательного существа<...> Bсе мы, – говорил он, – поскольку мы существа сознательные – имеем вторую родину, и как духовные существа, как люди являемся именно её гражданами» [Мамардашвили 1992а, с. 105]. Hеслучайно, посвятив проблеме сознания всю свою философию и саму жизнь, на вопрос, «а что же это всё-таки такое?», он так завершил одно из своиx интервью: «Не знаю, не знаю, не знаю...»
Во всяком случае, полагал он, мы имеем дело не с тем, о чём говорит теория отражения, а с чем-то совсем иным. Речь идёт и не о деятельности мозга (логическом мышлении), как это толкуют естественно-научные представления. Более того, здесь не имеется в виду и содержание сознательных актов. Центральная идея философии Мамардашвили в том, что рассматривать следует само «событие» сознания, не отделяя при этом субъект от объекта – поскольку человек сознаёт мир, уже находясь в сознании.
Стоит обратить особое внимание на мысль философа о том, что такое «событие» предпосылочно к «любым содержаниям, которые могут возникать» [Мамардашвили 1992c, с. 93]. Что имеется в виду под этой таинственной и парадоксальной предпосылочностью? Мыслитель толковал её как «всепроникающий эфир», как «вечное настоящее», как особым образом – вертикально по отношению к историческому времени – организованную структуру актов сознания. Подобный вертикальный срез существует вследствие всеобщей коммуникации – важнейшего свойства человечества. «Это своего рода коллективное “тело” истории и человека, <...> являющееся антропогенным пространством, целой сферой» [Мамардашвили 1992b, с. 185]. Иными словами, здесь воспроизводится сам мыслящий. По отношению к этой сфере «реальные эмпирические социальные и культурные структуры являются лишь конкретизациями, вариациями, знаковыми культурными образованиями и т.д.» [Мамардашвили 1996а, с. 219].
Мир, таким образом, неведомым путём порождает условия для своего познания, которые сами условий не имеют и предшествуют познанию. Основания подобной предпосылочности человек не в силах познать, потому что неизбежно сталкивается с тавтологиями существования и понимания, вне которых невозможно адекватно говорить о мире. Это как раз тот самый случай, когда понимать «означает вглядеться в то принятое, на вопрос о возникновении которого нет никакой необходимости отвечать» [Мамардашвили 1989, с. 205]. Кант полагал, что не следует даже стремиться к этому, так как если подлинноe решение недоступно, то сознание человека может лишь быть уведено играющими им силами.
«Вечное настоящее» предстаёт как совокупность неких мыслительных структур, или «пустых» форм. Мамардашвили именовал их трансценденталиями. Они возникают спонтанно, не имея оснований вне себя, и, в свою очередь, порождают новые структуры этого типа – и в итоге самого человека. Отсюда их определения – генеративные и конструктивные. Эти структуры, по мнению философа, представляют собой своеобразные «упаковки», в которых множество частных актов сознания наслаивается на некие таинственные «первоакты».
Совершить сознательный акт – значит войти в состояние предельного духовно-интеллектуального усилия и силой воли держать его. («Царство Небесное силою берется» [Мф. 11:12]). Но, подчёркивал философ, «наши психические свойства не обеспечивают этого держания, они обеспечивают это только в том случае, если они предварительно проработались через [генеративные] структуры и канализировались по связям и сцеплениям структур» [Мамардашвили 2009, с. 62]. Иными словами, акты сознания должны непрерывно возобновляться.
Поэтому в философии человеком можно назвать то существо, которое пребывает не в статике, а в динамике3. «Всю историю человечества можно рассматривать как попытку быть или стать человечеством. Причём пока никто не стал вполне человеком». Индивид, таким образом, прeдcтaвляeт coбoй постоянно актуальную вероятность трансцендирования, стремления за горизонт мира. «Человеческое возвышение над собой дискретно, оно совершается в любой точке и совершенно не по линии прогресса, не по линии эволюции» [Мамардашвили 2000]. Трансцендируя, соотносясь со сферой генеративных структур, человек оказывается в состоянии Сознания-Бытия.
«Бытие» – одно из основных понятий философии Мамардашвили. Кратко мыслитель определял его так: «Бытие – это то, чего не было и не будет, но что есть сейчас» [Мамардашвили 2004b, с. 91], т.е. это и есть упомянутое «вечное настоящее». Основной характеристикой Сознания-Бытия является преемственность мышления, которая и делает «вечное настоящее» всесвязным и неделимым; «связность сознания как некоего пространства для мысли предпосылочна по отношению к содержанию мысли. <...>Эта предпосылочная связность является условием нашего включения в непрерывное поле значений и смыслов и одновременно структурации себя посредством этих значений и смыслов» [Мамардашвили 1992c , с. 96, 94].
Бытие, таким образом, и единично, и в то же время множественно (отсюда само слово «со-знание»). Это со-знание, или со-бытие, общение в мысли, тождественнocть мысли и бытия. «Общение через время и пространство», по выражению Ю. Карякина. «Это соприкосновение с родственными мыслями и состояниями других, их взаимоузнавание и согласование, а главное – их жизнь, независимая от индивидуальных человеческих субъективностей и являющаяся великим чудом» [Мамардашвили 2004d, с. 58].
Поэтому в состоянии Бытия нечто помысленное парадоксально находит уже помысленное ранее, встречается с чем-то, что мы «уже знаем», «уже понимаем». Более того, оно предполагает встретиться и с тем, что будет помыслено позже, проходя по уже проложенным колеям воображения и мысли, как бы заполняя то, что Кант именовал «пустыми формами».
Бытие, таким образом, есть какaя-то иная невидимая рeaльнocть, в которoй мы также можем жить: но не просто существовать, а создавая себя как Человека. При этом можно войти в Бытие, а можно выпасть из него; это, как говорил Мамардашвили, «перемежающееся» состояние.
* * *
Всё сказанное о Сознании-Бытии освещает религиозную проблематику, о которой шла речь выше, новым светом. Ведь под религиозными смыслaми понимаются именно те, которые предполагают безусловное доверие к непознаваемой сверхприродной, но очевидно существующей реальности. Поэтому когда мы говорим об «вечно настоящем», о таинственной предпосылочности, имеется в виду нечто, лучше всего определяемое символом Бога. Понимать Бога как создателя человека следует именно в этом смысле.
Теперь становится яснее, как Бонхёффер видел соотношение христианина и Человека. Он сознавал, что для того, чтобы быть Человеком, христианину, воспитанному историческим христианством, явно не достаёт понимания соприродности со сверхмирным началом и непосредственного соотношения с ним.
И в самом деле, исторической Церкви не удалось сохранить в качестве своего центра тринитарную идею, хотя она и вела многовековую борьбу с ересями, так или иначе эту идею оспаривавшими. Сложившаяся вероисповедная практика приобрела характер культа, по существу эту идею не замечающего. Бог стал восприниматься лишь как трансцендентный (иномирный) повелитель, как внешняя по отношению к человеку всемогущая сила, по существу идол, у которого испрашивали защиту или вознаграждение. Абсолютное оказывалось непосредственно вовлеченным в мирские дела, в качестве, так сказать, главной начальствующей инстанции.
Такой по существу доевангельский Бог действовал как чудотворец. Это был Бог чудес. На него человек перекладывал всю ответственность за преодоление зла, а свою роль в лучшем случае сводил к внешнему благочестию4. Вера сводилась к уставному «обрядоверию» и суевериям. Воля Бога истолковывалась согласно наказам церковной иерархии, последняя же выступала не столько как община братьев во Христе, сколько как властная организация.
Для обмирщённой церкви стали актуальными несвобода и зависимость от светской власти (у восточного христианства – вплоть до огосударствления), нередко насильственный характер распространения веры, лицемерие, стяжательство5. Неслучайно Г. Федотов говорил о «древнем аскетическом и авторитарном отрицании свободы, которое гнездится во всех тёмных углах и закоулках старого христианского дома». Часто забывается, замечал он, что «христианизация жизни никогда не была ни полной, ни глубокой. Оказалось легче покорить человеческий разум христианской вере, чем волю и страсти христианской любви. Борьба интересов, торжество жестокости и чувственности в христианскую эпоху человечества были не менее разнузданны, чем в наше неверующее время» [Федотов 1982, с. 22].
К тому же не удался и проект Вселенской (кафолической) церкви как единой общины христиан. Хотя христианство провозгласило универсальность человечества, отодвинув на второй план все его разделения, включая национальные, как второстепенные, доныне церковь разделена. Существуют десятки деноминаций, часто не признающих друг друга и даже враждующих между собой. Более того, бытует церковный национализм, который, как говорил Бердяев, «есть язычество внутри христианства, разгулявшиеся инстинкты крови и расы. Христиане<...> не имеют права быть “национально–мыслящими”, они обязаны быть универсально–мыслящими» [Бердяев 2017, с. 69]. Действительно, христианство не может быть делом отдельных народов. Тем более таких, которые лишь внешне исповедуют его, не делая ничего для устроения христианских порядков в обществе – жизни без войн, без угнетения человеком человека, без греха6.
Неудивительно, что Вл. Соловьёв находил, что христианство «разрушено в любой форме», что «современное состояние самой религии вызывает отрицание, потому что религия в действительности является не тем, чем она должна быть» [Соловьёв 2004, с. 3]. Он именовал такую веру ложным христианством или полухристианством. «Христианство, – полагал он, – хотя и безусловно–истинное само по себе, имело до сих пор вследствие исторических условий лишь весьма одностороннее и недостаточное выражение. За исключением только избранных умов, для большинства христианство было лишь делом простой полусознательной веры и неопределённого чувства, но ничего не говорило разуму, не входило в разум. Вследствие этого оно должно быть заключено в несоответствующую ему, неразумную форму и загромождено всяким бессмысленным хламом» [Соловьёв 1977, с. 8]. Мыслитель называл церковное миросозерцание «средневековым» и говорил об «историческом компромиссе между христианством и язычеством», который во многом превратился в «чудовищное учение о том, что единственный путь спасения есть вера в догматы, что без этого спастись невозможно» [Соловьёв 1914, с. 388].
Кант называл такую обмирщённую религию «богослужебной». Отец А. Шмеман говорил о ней, как о «религии без Бога, религии как средоточии всех идолов, владеющих падшим человеческим "нутром"» [Шмеман 2005, с. 49].
Конечно, первохристианство, или евангельское христианство, моглo быть соборным в том смысле, который вкладываeт в это понятие православие, т.е. общиной во Христе, духовной общностью стоящих на пути к святости. Но это осталось в прошлом. Все те трансформации, которые произошли с историчeским христианством, заставили многие умы говорить о необходимости «антропологического поворота» в нём.
Одной из попыток в этом направлении стали идеи К. Ранера об «анонимных христианах», и того же Бонхёффера о «безрелигиозном христианстве». В сущности они подразумевают, что любой действительно нравственный человек уже живёт в соответствии с евангельскими принципами, пусть он даже не знает этого. В этом свете небезосновательной предстаёт «идея “внехрамовой литургии” Н. Ф. Фёдорова, Вл. С. Соловьёва, Ф. М. Достоевского и др., предполагающая расширение литургического служения на всё пространство истории и мира, включения в него всех сфер дела и творчества человека» [Гачева 2021, с. 98]. Заслуживает внимания и мнение Мамардашвили: «Или мы говорим о религии как о конфессии, или мы говорим о первичной евангельской религиозности, которая никак не зависит от того, ходит ли человек в церковь, как он относится к церкви как к социальной, исторической институции, и что он сам думает об этом и так далее» [Мамардашвили 1996b, с. 370].
Таким образом тринитарность христианства не позволяет, как представляется, сужать его до его исторических форм, которые в итоге, как мы видели, во многом сводятся к богослужебному культу. На самом же деле тринитарность расширяет христианство и открывает путь в сферу Сознания, где сверхприродное прорастает в природное. А это делает неактуальным противоречие между разумом и верой, представлявшееся плоско рациональной мысли абсолютным и неразрешимым. Именно здесь христианская по происхождению ценностная система, во-первых, действительно раскрывает свою сверхприродность, а во-вторых, становится универсальной.
Всё сказанное позволяет и по-иному оценить представления о коренной несовместимости религиии и философствования или даже об их противоположности («вера versus разум»). Такое противопоставление, казавшееся абсолютным и отводившее религии статус некоего до- и антинаучного мировоззрения, предстаёт теперь как неактуальное. Верно замечено, что «если мы находим внутреннее основание веры вместо внешне-фактического, тогда наука из страшного врага веры способна превратиться в её друга, в средство, хранящее от идолов» [Матвееев 2009]. В таком случае говорить о вере и следует как о доверии своему априорному (предпосылочному) нравственному знанию, не требующему доказательств и объяснений.
То, что теология и философия оказываются близки друг другу, говорит не только о том, что между ними нет непреодолимых противоречий, но и о том, что противопоставление христианской мысли и светской европейской философии в целом имеет исторический, а не мировоззренческий характер. Это необычайно важнo. Именно такие представления привносят в современный мир, мир Постмодерна, столь нужные ему обновлённые смыслы, которые в Новое время были с пренебрежением отодвинуты в сторону. Нравственный императив получает санкцию как религиозной традиции, так и религиозно нейтрального интеллекта. Нужно ли говорить, насколько это актуально в ситуации, когда западная цивилизация во многом остаётся христианской лишь по унаследованным институтам, но не по духу?
Важно и то, что тринитарное христианство, апеллируя к личной ответственности автономного свободного существа, побуждает его преодолеть иллюзорное сознание и отвернуться от манящих соблазнов утопизма, которому он всегда с готовностью шёл навстречу, ради трагического, но трезвого и достойного взгляда на мир и на своё место в нём7.
* * *
Итак, в чём же значение «открытия» Бонхёффера? В том, что быть истинным христианином означает фактически стать иным человеком, собственно Человеком, родиться заново в Сознании-Бытии. Таким образом в христианство возвращается тринитарность в качестве его истинного – центрального – содержания; в нём действительно свершается «антропологический поворот».
Такой поворот часто связывают с необходимостью демифологизация христианства. Но когда речь идёт о религии, демифологизация «вообще» невозможна: религии нет без мифологии (причём нельзя забывать, что мифы – не легенды или сказки, а способ самопостроения и ориентации человека в мире, где не всё может быть им рационально понято). Поэтому речь может идти скорее о некоей ремифологизации христианской мистики, т.е. о её иной интерпретации, приемлемой для нашей эпохи. Это тем более необходимо, что мифологический язык христианства, предназначенный человечеству на все времена, стал восприниматься как историческое описание реальных событий, а это противоречит знаниям, добытым наукой.
Идеи философии сознания как раз и способствуют упомянутой ремифилогизации. Признание источника морального закона трансцендентальным, т.е. согласие с тем, что разум не способен рационально познать таинственное явление сознания как конструктивного фактора Бытия, его нравственную природу , как раз и представляет собой конструирование мира при помощи мифа. Однако мифа трансформированного, поскольку современному человеку соразмерна такая мифология, которая отвечает всем запросам свободного разума, обогащённого культурой [см. Киселёв 2019].
Случится ли в христианстве «антропологический поворот»? Понятно, что можно говорить лишь о его вероятности.
Но если это произойдёт, то историческое христианство может предстать как явление ограниченное, которое лишь подготавливает почву для высшего духовного феномена, универсальной религии – «широкого» религиозного мировоззрения как некоего целостного предельного по-знания/со–знания/со–творения мира. Именно религиозного – потому что был бы свободно принят нравственный императив, имеющий трансцендентальную, или сверхопытную, природу. При этом само значение понятия «религия» расширилось бы за пределы традиционно толкуемой конфессиональной веры. (Неслучайны в этом свете известные слова Пастернака: «Христианство для меня не религия, а гораздо больше, чем религия».)
Может быть, есть даже основания говорить о наличии в христианстве некоего скрытого до времени онтологического содержания, актуализирующегося лишь вне рамок, как бы «поверх» (но с непременным участием) локальных цивилизаций и исторических религий. Eсли вспомнить, что просвещение в том смысле, который вкладывал в это понятие Кант, состоит в достижении человечеством совершеннолетия, истинно человеческой зрелости, то идея об этом высшем духовном феномене, приобретает дополнительное основание.
Тогда пророческими оказались бы слова о. Меня, что «христианство только начинается». Вот и Е. Рашковский полагает, что в сложных условиях современного мира происходит «перемещение нынешних приоритетов религиозного опыта из области ритуальной (календарь, богослужебный чин, регламентация ритуальной чистоты, дневной обиход, жизненный цикл и так далее) в область внутренней жизни и – отчасти социального служения человека» [Рашковский 2010, с. 74–86]. В своё время М. Михайлов говорил о возрождающемся христианстве как о планетарном сознании «личности и свободы», как о новом сознании, укоренённом «в религиозном вдохновении и питаемом им чувстве ответственности за судьбу всего человечества и каждого отдельного человека» [Михайлов 2000, с. 163].
Какие силы способны стать его носителем? Священноe Писаниe утверждает, что «от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут» (Лк. 12:48). Влиять на непросвещённые массы надлежит нравственно и умственно сильно развитым людям, способным осознать свои возможности и предназначение. Это не значит, конечно, что им надлежит заниматься морализаторством и ограничиваться попечительством. Их главное призвание – свободная мысль. Только она может послужить условием для личностного роста и движения к правовому порядку; такие цели должны ставиться вполне сознательно. Здесь стоит вспомнить мысль Э. Соловьёва, отмечавшего, что если воздействие религии на зарождение права в истории Западной Европы были стихийным процессом, то «в современном, глубоко секуляризованном мире подобный механизм правопорождения просто невозможен. Поэтому нам предстоит повторить генезис на новом уровне рациональности и идеализма, – на уровне чисто правовой интенциональности» [Соловьёв 1992, с. 24, 31-32].
Может возникнуть вопрос: есть ли связь между идеей о «новом», «широком» религиозном сознании и идеей утверждения на Земле Bселенской церкви, которую в своё время выдвинул Вл. Соловьёв? Напомним, что, по его мнению, великое предназначение христианства – утвердить на Земле Bселенскую церковь и так устроить жизнь человечества согласно заповедям Христа. Это и есть ядро известной соловьёвской идеи о «всемирной теократии». Но Соловьёв не имел в виду политическую или какую–либо иную «здешнюю» власть церкви. Напротив, католическую церковь философ критиковал как раз за её чрезмерное непосредственное участие в жизни и делах мира.
Мысль Соловьёва о том, что христианство в лице Bселенской церкви должно быть подлинным духовным руководителем, нравственным авторитетом человечества и только в этом смысле властью, нужно понимать именно как косвенное признание актуальности широкого его толкования: «Религиозная и церковная идея должна первенствовать над племенными и народными стремлениями» [Соловьев 1989, т. 1., с. 284]8.
* * *
Разумеется, антропологический поворот в христианстве – всего лишь вероятность. В нашу же секулярную эпоху распространено мнение об «исторической неудаче» христианства. Верно ли это?
Действительно, хотя Благая Весть провозгласила идеалом всеобщее братство, оно и после двух его тысячелетий остаётся лишь идеалом. Мир, гордый своими колоссальными социальными, культурными, политическими, хозяйственными и технологическими достижениями, во многом, и правда, благотворными для человека, в целом по–прежнему лежит во зле. Одно ХХ столетие от Рождества Христова явило миру такое варварство и унижение образа человека, какое Священное Писание связывало с наступлением царства Антихриста. Колоссальные бедствия этого столетия в полной мере показали наивность оптимизма в отношении будущего человечества, оптимизма, столь характерного для ХIХ века. Приходится признать, что несмотря на все достижения серьёзных предпосылок для сложения универсальной гуманистической цивилизации, а также для утверждений о непреложности общественного прогресса пока нет.
Сегодняшний мир – как и в прошлые времена – в целом бесчеловечен. Это враждебный человеку, неблагополучный и опасный мир. Всё громче раздаются голоса, предупреждаюшие о наступлении «периода глобальной смуты, о грядущем столкновении цивилизаций, о движении мира к новому тоталитаризму или неосредневековью, о реальной угрозе демократии со стороны неограниченного в своeм "беспределе" либерализма и рыночной стихии», об органичной недемократичности глобального универсума [Неклесса 1999, с. 37], о глубоких противоречиях между Западом и автократиями9. В частности, не сбылись надежды на установление более справедливого международного порядка, связанные с концом холодной войны и распадом коммунистической системы (как далеко до кантова вечного мира!) Опасность гибели самого мира в ядерной войне – как бы визитная карточка нашего времени. Но опасность этa не единственная. Глобализация породила нoвыe формы неравенства и угнетения между развитым и развивающемся миром, которые вызвали к жизни международный (преимущественно исламистский) терроризм.
Существенно, что всё это происходит на фоне расширения сферы массового общества как на «богатом Севере», так и на «бедном Юге». Преобладание же «человека массы» более всего характеризуется деиндивидуацией. Вместо гармонично и разносторонне развитой личности, появления которой ожидали социальные утописты, явились своего рода люди-недоделки10.
Вместе с тем научно-технический прогресс обеспечил существу, в нравственном отношении ещё весьма незрелому, невиданную мощь. Bозможности разрушительнo влиять на биосферу cтaли нa рубежe III тысячелетия столь широки, что под угрозой оказалacь сама экологическая ниша Homo Sapiens’a. Фактически поставлено под вопрос существование людeй как вида, который представляет собой одну из систем биосферы11.
Всё это ясно показывает, что человечество в целом всё ещё недостойно данного ему уникального дара сознания и свободы. Безрелигиозная эпоха оказалась весьма высокой платой за просвещение, причём нельзя быть уверенным, что платежи не приведут в итоге человечество к банкротству.
И всё же говорить о глобальной «неудаче христианства» неосмотрительно. Разум не готов полностью принять это по меньшей мере скороспелое суждение. Неслучайно К. Леонтьев говорил о такой «неудаче» как о «кажущейся». Жизненный путь человечества, как становится всё яснее, вероятностен. И об одной из вероятностей свидетельствуют тринитарность христианства и философия сознания, показывающие, что индивид собственным усилием способен стать Человеком действительным, а значит и истинным христианином. Жить в Сознании-Бытии, а не как бы во сне. Вот это и имел в виду Бонхёффер.
* * *
Антропологический поворот в христианстве, как уже было сказано, – всего лишь вероятность. Сможет ли человечество реализовать названные предпосылки и создать социальность, основанную на нравственном законе, или хотя бы твердо встать на ведущие к ней пути – вопрос открытый.
Тем более стоит напомнить о том, что вся концепция истории христианства трагична.
Об этом много писал К. Леонтьев. Христианство эсхатологично: наступит царство Антихриста, Апокалипсис, а затем грешный мир человека непременно погибнет. Только после этого вследствие преображения наступит неотмирное и вечное Царствие Божие. Похоже, что символический язык христианства доносит до нас ту парадоксальную идею, что свершение, осуществление в своей полноте мира человека – грешного по самой своей природе – будет в то же время и концом человека «из плоти и крови». Таким образом христианство эксплицирует интуицию того, что в последнем счёте дуалистическое мироздание, отличительным качеством которого является сосуществование природы и духа, именно в силу этого парадоксального, «неестественного» сосуществования имеет неизбежно преходящий характер. Интуицию о том, что наш мир неистинен, что он – всего лишь временное прибежище нелепого в своей неизбывной двойственности человеческого существа.
Священное Писание на своем символическом языке предсказывает как будто имeннo такой исход. Возможно, человечеству был открыт единственно возможный путь выживания именно в качестве уникального сообщества разумныx существ, путь к преображению, а оно по этому пути не пошло, не пожелав даже вдуматься в то, что ему было открыто. «И не думали, пока не пришел потоп и не истребил всеx» (Матф. 24:37-39).
В самом деле, что eсли усматривать в этом действительноe предвидение о неудаче в целом проекта «человек»? Тогда можно было бы предположить, что, oтбросив свою высoxшую ветвь, эвoлюционный самоорганизующийся процесс найдёт другие возможности своего дальнейшего развёртывания. Будет ли это вновь связано с сознанием, появятся ли где-нибудь во Вселенной другие его носители, или возникнyт какие-то совершенно недоступные нашему пониманию формы жизни, нам уже не узнать.
Примечания
- Вот яркий образец такой веры-доверия : «<...> я сложил в себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа» [Достоевский 1996, с. 96].
- О том, что Бог проявляется через человека, являя себя в его душе и указывая ему путь к слиянию с собой, говорил в своё время Майстер Экхарт. Показательны слова Р. Бультмана: «Мы не можем сказать: так как Бог правит миром, то он и мой Господь; напротив, лишь если я понимаю себя как человека, к которому Бог обратился в моeм собственном существовании, лишь в этом случае для меня имеет смысл говорить о Боге как о Господе мира... Разговор о Боге, если бы он был возможен, всегда должен был бы становиться одновременно и разговором о нас. Так что на вопрос “как можно говорить о Боге?”, надо ответить: только говоря о нас» [цит по: Лёзов 1992, с. 75].
- Мамардашвили полагал, что «все философские утверждения, содержащие термин "человек", никогда не разрешимы на каких-либо антропологических свойствах, на каком-либо конкретном образе человека, поскольку <...>они всегда имеют в виду возможного человека, который никогда не есть, т.е. не есть как какое-то предшествующее состояние, а всегда есть тогда, когда есть» [Мамардашвили 1991, с. 17].
- «Массы, – заметил Ж. Бодрийар, – приняли во внимание только его (Христа. – Г. К.) образ, но никак не Идею. Они никогда не были затронуты ни Идеей Божественного, которая осталась предметом заботы клириков, ни проблемами греха и личного спасения. То, что их привлекло, это феерия мучеников и святых, феерии страшного суда и пляски смерти, это чудеса, это церковные театрализованные представления и церемониал, это имманентность ритуального вопреки трансцендентности Идеи. Они были язычниками – они, верные себе, ими и остались, <...>довольствуясь иконами, суевериями и дьяволом» [Бодрийяр 2000, с. 12].
- В 1994 г. Иоанн Павел II поставил перед коллегией кардиналов вопрос о покаянии («mea culpa») католической церкви перед Богом и людьми. Во время служения торжественной мессы в Ватикане Папа просил прощения за все прегрешения церкви перед человечеством и признавал её восемь грехов: преследование евреев, раскол и религиозные войны, крестовые походы и оправдывающие войну теологические догматы, презрение к меньшинствам и бедным, оправдание рабства. Он каялся за нетерпимость и насилие в отношении инакомыслящих, за жестокость, допущенную в ходе религиозных войн. Папа осудил методы инквизиции, признал нарушение прав народов и отдельных людей.
- «Грехов было, – замечал Ф. Степун, – что говорить, много. Достаточно вспомнить, что блаженный Августин защищал телесное наказание еретиков, что Святой Фома Аквинский оправдывал введение смертной казни в инквизиционное судопроизводство посланием апостола Павла к Титу, где сказано: “Еретика после первого и второго вразумления отвращайте”. <...>Достаточно также вспомнить, что иосифляне сожгли немалое количество заволжских старцев и что Кальвин в эпоху гуманизма сжёг Сервета как противника учения о триедином Боге» [Степун 1962, с. 70].
- Иллюзорное сознание есть мифология, но не онтологическая, которая господствовала в древности, а фантастическая. О губительности утопических фантомов, характерных для непросвещённости, предупреждала ещё критическая философия Канта. И действительно, история показывает, что они способны привести – и множество раз в истории приводили – к масштабным трагическим для мира человека последствиям. Неслучайно все проекты создания совершенного общества проваливались. Попытки найти в дольнем мире абсолют всегда в конце концов порождали насилие, несли за собой кровь и смерть. В сущности благодаря ложному сознанию (квазисознанию) едва ли не всё зло мира производится самими людьми. Результат этого – постоянное возвращение к собственным заблуждениям и преступлениям, неспособность вырваться из заколдованного круга своей немоготы. В понятиях синергийной антропологии С. Хоружего речь идёт о виртуальной, т.е. недостроенной, недодуманной картине мира, т.е. в конечном счете о квазиреальности. В. Кантор назвал не-сознание феноменом «знания помимо и вне понимания», «недостаточной разработанности нашего мышления и сознания, приводящей к роковым аберрациям, создающим определённые фантомы в нашем восприятии самих себя» [Кантор 2011, с. 7]. Мамардашвили, полагал, что подмена актов сознания фантазиями, миражами, говорит о «грязном, “замусоренном” сознании, неопрятном мышлении». Это было сказано о части интеллигенции 20 – 30-х годов (и советской, и западной) прошлого столетия, доверчиво и даже восторженно принявшей коммунистический миф. Мыслитель говорил о её «чудовищном предательстве», и справедливость этой оценки со временем выявляется всё больше.
- Одно время Соловьёв придерживался идеи о возможности достижения царствия Божия уже в этом мире; в конце жизни от этой идеи он, правда, отказался. О фантастичности подобных идей ясно высказался К. Леонтьев: «Не полное и повсеместное торжество любви и всеобщей правды на {этой} земле обещают нам Христос и его апостолы, а, напротив того, нечто вроде кажущейся {неудачи} евангельской проповеди на земном шаре» [Леонтьев 1990, с. 13]. В полной мере предсказания Леонтьева сбылись в ХХ столетии, которое недвусмысленно подтвердило, что в этой жизни ожидать торжества «любви и всеобщей правды» нет никаких оснований.
- В ходе глобализации наглядно проявились эгоистическая натура нестеснённого капитализма, растущий эгоизм рынка и культ индивидуального потребления, увеличение разрыва между богатыми и бедными, снижение затрат на образование, т.е. недооценка инвестирования в будущее и т.д.
- Много уже сказано о типичных качествах «массового человека», таких как инфантильность, «бегство от свободы», равнодушие к гражданской жизни, боязнь ответственности, лёгкая сдача манипуляциям, стадность, захваченность масс-культурой и т.д. Нельзя не отметить также общее невежество и готовность по любому поводу выносить категорические суждения. Ещё Эразм Роттердамский в своём знаменитом трактате писал, что «самая низкопробная дрянь всегда приводит толпу в восхищение, ибо значительное большинство людей заражено глупостью». Разумеется, это не означает, что все люди таковы. Всегда можно говорить о духовном плебсе и о духовной элите. При этом принадлежность к ним нисколько не зависит от социальных градаций и т.д.
- Положение быстро приближается к критическому. Некоторые специалисты предупреждают, что мы наxодимся на краю пропасти. Так, Н. Моисеев полагал, что «деятельность человечества ведёт, вероятнее всего, к деградации биосферы и не способна гарантировать существование Человека в ее составе. ...Одно необдуманное действие – и человечество может исчезнуть с лица Земли» [Моисеев 1999, с. 18].
Ссылки
Бердяев Н. А. Проблема человека (к построению христианской антропологии) // Путь. Орган русской религиозной мысли. Париж. 1936, № 50.
Бердяев Н. А. Существует ли в Православии свобода мысли и совести?// Путь. Орган русской религиозной мысли. Париж. 1939. № 59.
Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или конец социального. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2000.
Гачева А. «Вселенская месса» Пьера Тейяра де Шардена и «внехрамовая литургия» Ф. М. Достоевского и русских религиозных мыслителей // Философические письма. 2021, т. 4, № 3. С. 98-129.
Достоевский Ф. М. Письма. 39. Н. Д. Фонвизиной. Конец января – 20-е числа февраля 1854. Омск // Достоевский Ф. М. Собрание сочинений в 15 томах. СПб.: Наука, 1996. Т. 15.
Кантор В. К. «Крушение кумиров», или одоление соблазнов (становление философского пространства в России). М.: РОССПЭН, 2011.
Киселёв Г. С. Христианство как проблема // Вопросы философии. 2019, № 3.
Киселёв Г. С. Иллюзия прогресса. Опыт историософии. 2021. Web (www.gskiselev.com; flibusta.com; https://www.litres.ru/grigoriy-sergeevich-kiselev/illuziya- progressa-opyt-istoriosofii).
Леонтьев К. О всемирной любви. Речь Ф. М. Достоевского на пушкинском празднике // О Достоевском. Творчество Достоевского в русской мысли 1881–1931 годов. М.: Книга, 1990.
Лёзов С. В. Теология Рудольфа Бультмана // Вопросы философии. 1992, № 11.
Мамардашвили М. К. Мысль под запретом. Беседы с А. Э. Эпельбуэн // Вопросы философии. 1992а, № 5.
Мамардашвили М. К. Если осмелиться быть // Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию. 2-е изд., изм. и доп. М.: Прогресс; Культура, 1992b. С. 172–200.
Мамардашвили М. К. Идея преемственности // Мамардашвили M. К. Как я понимаю философию. 2-е изд., изм. и доп. М.: Прогресс; Культура, 1992c.
Мамардашвили М. К. О сознании // Необходимость себя: введение в философию: доклады, статьи, философские заметки. Под общ. ред. Ю. П. Сенокосова. М.: Лабиринт, 1996a.
Мамардашвили М. К. Философ не может быть пророком // / Необходимость себя: введение в философию: доклады, статьи, философские заметки. Под общ. ред. Ю. П. Сенокосова. М.: Лабиринт, 1996b.
Мамардашвили М. К. Мераб Мамардашвили ‒ Натан Эйдельман: «О добре и зле». Искусство кино. 2000. № 3. Web: old.kinoart.ru.
Мамардашвили М. К. Вольномыслие (материалы круглого стола) // Мамардашвили М. К. Сознание и цивилизация. М., 2004а.
Мамардашвили М. К. Философия – это сознание вслух // Мамардашвили М. К. Сознание и цивилизация. М., 2004b.
Мамардашвили М. К. Опыт физической метафизики. М.: Прогресс–традиция, 2009.
Матвееев Д. Как спасти «разговор о Боге» // Континент, 2009, № 139. Web (http://magazines.russ.ru/continent/2009/139/bi26.html).
Михайлов М. B XXI век я всё же смотрю с надеждой // Дружба народов. 2000. № 2.
Моисеев Н. Быть или не быть… человечеству? М.: Ульяновский дом прессы, 1999.
Неклесса А. Конец цивилизации, или конфликт истории // Мировая экономика и международные отношения. 1999, № 3, 5.
Рашковский Е. Б. Многомерность развития. На путях к гуманитарной глобалистике (из записок историка-религиоведа) // Мировая экономика и международные отношения. 2010, № 12.
Соловьёв Вл. Об упадке средневекового миросозерцания. Реферат, читанный в заседании Московского Психологического общества 19 октября 1891 года) // Собрание сочинений. Т. 6. СПб.: Просвещение, 1914.
Соловьёв Вл. Письма. Т. 3. Брюссель: Жизнь с Богом, 1977.
Соловьев В. С. Национальный вопрос в России // Соловьев В. С. Сочинения. В 2 т. М.: Правда, 1989.
Соловьёв Вл. Великий спор и христианская политика // О христианском единстве. М.: Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино. 1994.
Соловьёв Вл. Чтения о Богочеловечестве. М.: АСТ, 2004.
Соловьёв Э. Ю. Выступление на «круглом столе» // Вопросы философии. 1992, № 2.
Степун Ф. Встречи. Мюнхен: Товарищество зарубежных писателей, 1962.
Струве П. Б. Facies Hippocratica. К характеристике кризиса в современном социализме // Струве П. Б. Patriotica: Политика, культура, религия, социализм. М.: Республика, 1997.
Федотов Г. Тяжба о России // Полное собрание статей. Т. 3. Париж, 1982. Шмеман А., прот. Дневники. М.: Русский путь, 2005.
gskiselev.com © Г. С. Киселёв, 2024